Кшиштоф Варликовский — один из самых интересных польских театральных режиссеров. Изучал историю, французскую филологию и философию в Ягеллонском университете в Кракове. В 1983 году уехал из Польши, жил главным образом в Париже, был слушателем курса истории античного театра в Практической школе высших исследований (École Pratique des Hautes Études), изучал философию, французскую литературу и иностранные языки в Сорбонне. В 1989 году вернулся в Польшу и поступил на факультет режиссуры драмы Государственной высшей театральной школы в Кракове. Учился у Кристиана Люпы.
Петр Грущинский — театральный критик, автор книг о современном польском театре, шеф-драматург варшавского «Нового театра» («Nowy Teatr»), сподвижник режиссера Кшиштофа Варликовского и соавтор всех его зрелых спектаклей.
«Шекспир и узурпатор». Исходная точка книги — девять постановок по пьесам Шекспира, которые Варликовский реализовал между 1994 — 2004 годами в Польше и других странах — в Германии, Франции и Италии. Но собеседники выходят за пределы этого круга, разговаривая о пьесах, которые Варликовский не ставил, таких как «Ромео и Джульетта» или «Отелло». Обращаются также и к другим спектаклям, не по Шекспиру: «Чистые» Сары Кейн, «Диббук» Семена Ан-ского и Ханны Кралль, «Вакханки» Еврипида, «Ангелы в Америке» Тони Кушнера. Дискутируют не только о театре, но гораздо шире — о польском обществе, временах трансформации и о том, что же тексты Шекспира могут сказать нам сегодня.
Книга написана в форме интервью и разбита на 11 глав. В роли узурпатора здесь выступает Варликовский. Его исследования Шекспира не опираются на общепризнанные традиции и расхожие интерпретации, а наоборот, вступают в активную борьбу с хранителями «пыли».
На сегодняшний день переведена вся книга и, находясь в поиске издателя, мы, тем не менее, решили поделиться с вами одной из глав.
Ссылка на восьмую главу книги, «Жизнь без правил»
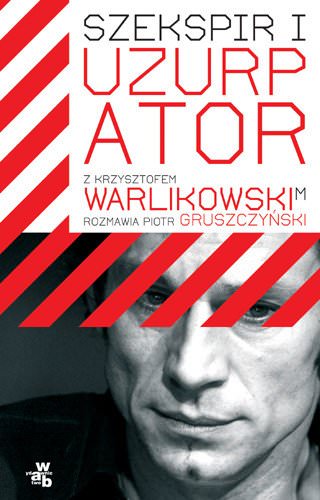
Перевод с польского Антона Маликова
СОВРЕМЕННЫЙ, НЕ ОСОВРЕМЕНЕННЫЙ
Когда ты берешься за интерпретацию текста Шекспира, то ищешь обоснование для постановки в том, что происходит в Польше или в той стране, где работаешь в данный момент. Ты не хочешь, чтобы твой спектакль повисал в безымянном пространстве или в пространстве неискренности и пафоса. Осовремениваешь?
Я не знаю, что появляется раньше — рефлексия или история о нас, канвой которой служат произведения Шекспира. Возможно, просто пьеса Шекспира становится пьесой о нас в тот момент, когда мы входим в ее материю. Скорее, все случается в результате химической реакции, возникающей при столкновении с текстом и воздействующей на всех: и на актеров, и на меня. Отсюда начинает выстраиваться рассказ о сегодняшних людях. Тексты Шекспира не нуждаются в том, чтобы их осовременивали. Они всегда современны, достаточно в них вчитаться.
В 2005 году на фестивале в Авиньоне я участвовал в вечере, который вел Жорж Баню, и на который были приглашены Ян Фабр и Ромео Кастеллучи. Мы дискутировали о том, чтó сегодня в театре считается архаичным. Для них всех архаичное заключалось в ритуале. В ритуале смерти, умирающего тела или ритуале войны — в случае Фабра, в человеке раненном, поверженном — в случае Кастеллучи. Но я считаю, что вопрос был сформулирован некорректно, ведь архаично не то, что имеет архаичную форму, например, поединок на мечах. Архаично все, что сохранилось в сегодняшнем театре, и вот парадокс: именно то, что устарело, оказывается наиболее животворным. Я имею ввиду то, что высвободилось из-под масок мещанского театра, из традиций, которыми театр обрастал, теряя подлинную силу. То, что высвободилось, и есть самое архаичное и вместе с тем — самое современное. Это сущность театра. Таково действие химической реакции в текстах Шекспира, которые, если их прочитать надлежащим образом, освободить от масок традиции, от исторического костюма и дурацких традиционных способов интерпретации, сформированных веками, превращаются в тексты о современных людях. И только такого Шекспира стоит играть, потому что иначе невозможно передать смыслы, заключенные в его действительно гениальных пьесах.
Какие границы текст запрещает нарушать?
Приведу в пример «Двенадцатую ночь». История близнецов, которую можно рассказать несколькими способами. Девушка и парень, разлученные близнецы, каждый уверен в смерти другого. Девушка переодевается в парня, и начинаются приключения. Так выглядит краткое содержание. Этот сюжет можно рассказать в жанре комедии, как историю переодеваний и забавных ситуаций qui pro quo. Но тогда он не будет иметь ничего общего с тем, что написал Шекспир. Чтобы история обрела смысл, необходимо наполнить шекспировскую конструкцию, передать эмоциями. Нужно сыграть того, кто выжил, уцелел, но потерял брата, потерял всю семью. Возможно ли в такой ситуации радоваться спасению? Тем более, если разорвана все же очень особенная связь близнецов? Девушка принимает решение отправиться ко двору герцога, иными словами, начать все сначала. Она намерена сделать это в мужской одежде. Как можно трактовать ее действия? Перед нами невероятные бездны, невероятные решения и последствия, которым на протяжении многих лет никто не придавал значения, потому что всё подменили условностью. Шутками. Стало быть, нужно вновь задуматься, с какой стати девушка решает стать парнем. Может быть, в том обществе легче жилось, если ты мужчина? Возможно, но идем дальше: способна ли женщина стать мужчиной? Если ее не останавливают последствия возможного разоблачения, значит что-то должно толкать ее на такой шаг, какие-то очень веские причины. Может, в обществе она лучше чувствует себя в качестве мужчины? И, следовательно, перерождается, потому что у нее какая-то разновидность расстройства, и ей необходимо быть мужчиной? Пишет ли так Шекспир или это только фантазии вокруг сюжета, который мы наполняем? Для меня все поступки и действия не поверхностны, не конвенциональны, не театральны, они не служат эффектами, направленными на то, чтобы добавить занимательности хорошо написанной пьесе. Режиссер должен относиться к решениям и действиям, предпринимаемым персонажами, как к череде поворотных моментов в их жизни, и должен героев понять. Непроизвольно события, происходившие сотни лет назад, осовремениваются, и мы внезапно получаем историю наподобие «Торжества», где тоже фигурируют близнецы, которые не могут жить друг без друга. Или вроде «Чистых» Сары Кейн, где после смерти брата сестра хочет стать мужчиной, стать своим братом.

Почему ты не веришь, что это всего лишь театральная условность? Ведь переодевания всегда были элементом комедийной игры, и в них никогда не искали глубинного смысла. В «Глобусе» тоже наверняка не занимались поиском их экзистенциальной стороны, а относились к ним как к развлечению или чему-то само собой разумеющемуся.
Раз мы можем в такой истории столько всего вычитать, трудно поверить, что тот, кто ее писал, не хотел всего этого в ней уместить. Я стараюсь быть буквальным, читать только то, что написано. В «Глобус» приходили очень разные зрители, с разным интеллектуальным уровнем и степенью восприимчивости. Думаю, некоторые из них могли докапываться до глубоких смыслов пьес Шекспира. Но сегодня мы не можем делать вид, будто Шекспир писал сказки и комедии с мотивом переодевания. Тем более, что наша реальность все время подкидывает Шекспиру новые аргументы. Достаточно открыть любой модный журнал, чтобы увидеть, например, Изабеллу Росселлини в образе Рудольфа Валентино, женщину, которая оказывается идеальным мужчиной. Такие фотографии, в больших количествах публикуемые в популярных изданиях, заключают в себе всю амбивалентность сегодняшнего времени, эта амбивалентность — наша повседневность, и когда мы берем в руки текст Шекспира, нельзя забыть о ней или притвориться, будто ее не существует и будто Шекспир — какая-то идиллическая страна иллюзий.
Шекспир почти всегда в текстах, именуемых комедиями, подсказывает хеппи-энды или сказочные развязки. Ты же всегда последовательно их разрушаешь и превращаешь комедии в мрачные истории со страшным финалом. Почему? Ведь можно поставить «Бурю» как сказочную историю со счастливым концом, приукрасить так называемой рефлексией и делать вид, что так и надо.
Даже Голливуд научился писать сценарии, используя Шекспира и находя в нем правдивые современные истории. А мы в театре продолжаем шутить и верить в традицию. Так не годится. Конечно, можно до бесконечности играть эти комедии и даже трагедии, скользя по поверхности событий. Так делается в большинстве мировых театров, которые упиваются, например, звучанием шекспировского слова, не погружаясь в его смыслы. Можно, но зачем?
Однако разрыв с традицией и современное прочтение Шекспира не обязательно требуют отказа от хэппи-энда.
А тебе не кажется, что все эти свадьбы не имеют ничего общего с хэппи-эндом? Что они – предвестники настоящих, серьезных жизненных катастроф? В «Зимней сказке» супруги вновь встречаются спустя восемнадцать лет. Для них это, несомненно, восемнадцать потерянных лет, прошедших в скорби, с ощущением краха собственной жизни. И после чего-то подобного – счастливый финал? В «Буре» тоже свадьба, и звучат слова Миранды «прекрасный новый мир», которые на самом деле заставляют нас почувствовать смущение, вызывают жалость. Эта фраза предвещает трагедию, потому что уже ясно, что Миранда не способна понять мир и людей. На чем она, конечно, споткнется, хэппи-энда не будет. Когда я работал над «Бурей», мы переложили историю Миранды и Фердинанда на еврейско-немецкую историю. Cтудентка из Тель-Авива влюбляется в немца. Дедушка не хочет ей этого простить, он отрекается от внучки. И возникает вопрос прощения. Способны ли мы забыть, исправить то, что произошло в прошлом? Могут ли Миранда, принадлежащая к миру природы, и Фердинанд, ничем не примечательный парень из мегаполиса, понять друг друга. Встреча героев подобна эксперименту: их запустили в одну клетку, инстинкт сработал безукоризненно, они влюбились. Но возможно, когда-нибудь они догадаются, что их некоторым образом обманули, использовали? Что они из разных миров, по-разному устроенных. Как только мы начнем домысливать историю их происхождения, даже следуя за текстом Шекспира — Неаполь и Милан, — тотчас обнаруживаются источники конфликтов. Сепаратистский богатый Милан, который не хочет работать на бедный юг, никогда не договорится с Неаполем. По всей вероятности, здесь — противостояние чуждых друг другу, питающих взаимную ненависть сторон; даже если это только фантазия Шекспира, она значимая.

Стало быть, окончательно и бесповоротно: у Шекспира вообще нет счастливых финалов? А к тем, что таковыми кажутся на первый взгляд, нужно относится с подозрением?
Думаю, в этих финалах присутствует определенная концентрация парадоксов и провокаций. Мы имеем дело с чем-то, у чего нет шансов измениться. Финал вдруг оборачивается ускоренным действием, катализирует драматичную ситуацию. Контрапунктом внезапно возникает хэппи-энд, но невооруженным глазом видно, что он невозможен, неестественен, что зрителя водят за нос. Мы ловим себя на том, что уже сами помышляем о перемене судьбы героев, хотим неожиданности, дразним сами себя, смеемся над тем, как театр обобщает жизнь, обнаруживаем примитивность приемов театральной литературы, ее ориентированность на мгновенный эффект, к которому должен привести диалог.
В жизни тоже не бывает счастливых финалов? Является ли человек существом, имеющим вообще шанс быть счастливым?
Счастье — всего лишь мгновение. Потому хорошо закончить историю в этом мгновении, а не показывать разрушение, наступающее после кульминации счастья. Дело в том, что мне больше не дает покоя распад, чем секундное мнимое чудо счастья и торжество радости. Обнажаются страхи, которые изо дня в день не позволяют нам верить в счастье. Разум не допускает этой наивной веры. Кроме того, не существует чего-то такого как путь к счастью. И уж точно к счастью не ведет брак! Брак может привести к аду, преступлению, крупным потерям, но не к счастью. Это чудовищная социальная институция.
Настолько, что театру приходилось также выполнять функцию утешителя и потому необходимо было заканчивать эти истории в кульминационный момент счастья. Ты этого не хочешь? Не хочешь давать зрителям радость? Утешение, надежду? Оставляешь во мраке, даже фонариков им не дав.
Если кто-то выходит из театра умиротворенным, и в душе у него звучит свадебный марш, очевидно, что театр позволил себе шутку, иронию, игру. Свадьба — популярный театральный прием. Сегодня мы сказали бы «голливудский прием». А может это как раз шекспировский прием? Почти в каждой пьесе Шекспира есть свадьба. Иногда их несколько: три, а то и пять. Иногда в середине, иногда в конце, но свадьбами ничего не заканчивается, история не превращается в сказку, после чего остается только добавить: жили долго и счастливо. Со свадеб всегда начинаются несчастья. Взять хотя бы «Укрощение строптивой»: насколько по-разному можно прочитать финал пьесы. Например, как любовное признание женщины, которая согласилась с ролью прислуги мужчины, и смысл ее существования сводится к тому, чтобы увидеть улыбку на лице господина. Но можно — и мне кажется, даже необходимо — трактовать текст совершенно иначе, открыть перформативность, силу Шекспира. Точно так же по-разному можно прочитывать в пьесах проблемы, связанные с антисемитизмом. Шекспир как драматург всегда оставался очень неоднозначным. В «Венецианском купце» он делает героем еврея, который являет собой пример крайне отрицательного персонажа, это отвратительный человек. Оказавшись пострадавшим, он не вызывает сочувствия и симпатии. По похожему принципу сконструирован образ Катарины. При первом прочтении «Укрощения строптивой» кажется, что Шекспир поддерживает грубые способы ее унижения. Катарину успокаивают, усмиряют, и она перестает быть возмутителем спокойствия, разрушающим общественную гармонию. Она становится полезным членом общества, но добиваться этого приходится силой. Конечно, Шекспир не сторонник простых решений. Он задает только очень неоднозначные вопросы.

Твой театральный мир, так же как шекспировский, напитан кино. Ты смотришь огромное количество фильмов. О некоторых из них говоришь, что они формируют твое воображение или способ повествования. Думаю, фильмы, к которым ты обращаешься в спектаклях, значительно расширяют пространство современных отношений. Какие картины с этой точки зрения наиболее важны для твоего театра?
Не знаю, важны ли какие-то конкретные фильмы. Я думаю, кино обладает силой, которой театру часто недостает. Чтобы увидеть хороший спектакль, необходимо перемещаться в пространстве, во времени, охотясь, путешествуя, смотря записи, ведь сколько действительно интересных спектаклей создается в мире? С кино все обстоит совершенно иначе. Каждый год ты получаешь какое-то количество самых важных фильмов, со всего земного шара, великолепных, где экспериментируют с языком, с формой. Выходит, лучшее мировое кино посмотреть легче, чем спектакли; впрочем, спектаклей ставят значительно меньше, чем фильмов, тем более, что театр, по правде говоря, существует только в Европе.
Когда-то ты говорил, что поворотным фильмом для тебя стал «Ночной портье».
Да, я добавил бы еще «Догму», «Презрение» Годара, «Теорему» Пазолини, фильмы Хичкока, старое французское кино, и вообще старые фильмы. Я действительно пересмотрел большое их количество, особенно довоенных фильмов. Еще смотрел много оперных и драматических спектаклей, когда жил в Париже и находился в центре европейской эстетики самых утонченных форм. Это было гениальное время, ничего подобного нет в Польше — ни в Варшаве, ни в Кракове.
Раздражителей такой интенсивности?
Количества предложений: Париж — одно из тех мест, куда стекается лучшее искусство со всего мира.
Еще я вспоминаю, как ты когда-то восхищался «Королевством» Ларса фон Триера — довольно смешным и необычным, но, все же, телесериалом. Что тебя так захватило в этом фильме?
Симбиоз функционирования хоррора и больничной комедии, но прежде всего те странные клоуны. Люди с синдромом Дауна, обычные мойщики, наделенные сверхпроницательностью и даже даром ясновидения, очень шекспировские, впутанные в реальность, впрочем совершенно театрализованную. Благодаря им я лучше понял существование сверхъестественных персонажей у Шекспира. А сериальность делает продукт на первый взгляд низкопробным. Снаружи халтура, а внутри столько неоднозначности. И, также как у Шекспира, это можно рассматривать под разными углами: с позиции тупости потребителя телевидения и с позиции остроумия посвященного зрителя. Шекспир постоянно обращается ко всем, но каждому говорит что-то свое.
Piotr Gruszczyński, Szekspir i uzurpator. Варшава: W.A.B., 2007

