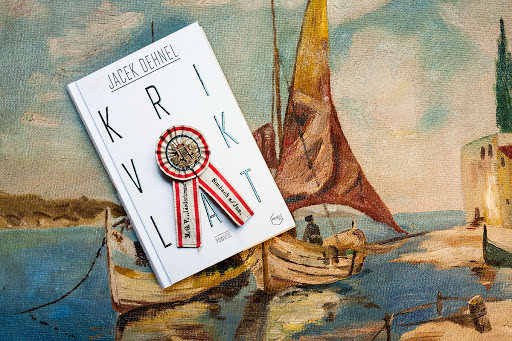Яцек Денель (род. 1980) — поэт, прозаик. Переводчик с английского (Филип Ларкин, Джордж Сиртеш, Уистен Хью Оден, Эдмунд Уайт) и русского (Осип Мандельштам), также переводил песни на музыку Астора Пьяццоллы. Выпускник отделения польской филологии Варшавского университета. Помимо литературы он занимается живописью и так называемым «искусством жизни»: поэт копирует стиль одежды и поведение денди. В творчестве Денеля доминирует стилизация под прошлое, которая задает основной мотив его произведений. На русском языке выходили его книги «Ляля» и «Сатурн».
«Кривоклят». Кривоклят — многолетний пациент психиатрических учреждений. Австрийская пресса окрестила его «кислотным вандалом»: он уничтожил не один шедевр живописи в знаменитых музеях Европы. И последнее слово все еще остается за ним.
За основу романа Яцек Денель взял реальную историю немецкого «кислотного вандала» Ханса-Иоахима Больмана, повредившего пятьдесят шесть произведений искусства. «Кривоклят» — это пастиш прозы Томаса Бернхарда, полная черного юмора книга об искусстве, любви и человеке, который не боится противостоять обществу. Роман вышел на русском языке в петербургском Издательстве Яромира Хладика. С разрешения издателя мы публикуем отрывки из книги. Заказать книгу можно на сайте http://hladik.mozello.ru/.
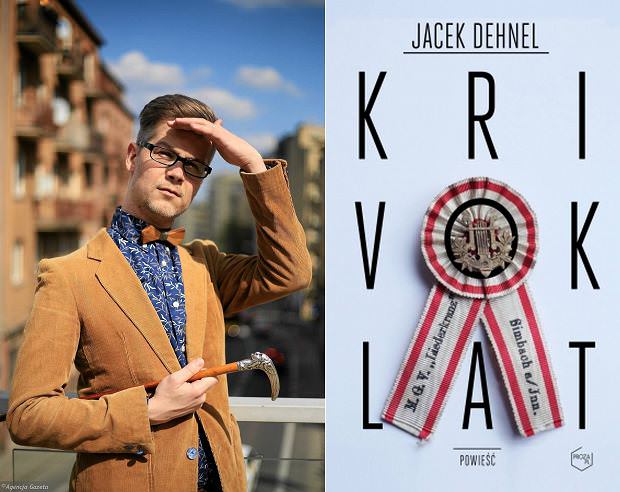
Перевод с польского Юрия Чайникова
Вы не боитесь, спросил меня как-то один репортер после очередного процесса, что когда вы несете эту вашу Schwefelsäure in der Flasche, то она может вытечь и сжечь вас, на что я ответил, что искусство требует жертв, и эти мои слова стали заголовком статьи, напечатанным большими жирными буквами; а ведь с этими Flaschen на самом деле проблема: с одной стороны, она должна быть плотно закрыта, а с другой — в любую минуту должна быть готова к тому, чтобы быстрым точным движением моментально открыть ее, предварительно достав из кармана плаща или куртки, впрочем, вот уже много лет плаща, потому что я не большой любитель курток, особенно после фиаско в зале с «Девушкой, примеряющей ожерелье» Вермеера в Музее Далем в Берлине, когда die Flasche предательски вылезла у меня из кармана и охранник направил меня в гардероб, категорически заявив, что в музейные залы ни в коем случае нельзя вносить никакие жидкости, ибо не ровен час и найдется псих, кому вздумается принести Schwefelsäure в такой Flasche и попытаться уничтожить одну из картин; из-за чего во мне на многие годы поселилось отвращение к этому залу, да собственно говоря, ко всему берлинскому Музею Далем, и я больше никогда не пытался встать перед «Девушкой, примеряющей ожерелье», чтобы быстрым точным движением открыть eine Flasche и облить Вермеера mit der Schwefelsäure, а заодно и несколько других картин, что зависело бы от скорости реакции ближайшего охранника или остальных посетителей, которые, как правило, предпочитают не рисковать, не без основания считая, что я из тех, кого называют психами. Я уже рассмотрел и опробовал целый ряд систем и мне нравится думать, что в каком-нибудь другом, в лучшем мире, где мужчины в определенном возрасте, обливающие mit Schwefelsäure произведения искусства и даже шедевры в известных, даже самых знаменитых музеях, пользовались бы несколько иной, чем у нас, репутацией, быть может, лексиконы и энциклопедии включали бы такое гнездо, как «Метод Кривоклята», или «Система Кривоклята», или даже «Die Krivoklatschwefelsäureattakensystem» (KSSAS), а я мог бы выступать с выездными лекциями и объяснять, как я достиг совершенства в транспортировке и в применении емкостей mit der Schwefelsäure, ввернул бы по ходу лекции несколько забавных анекдотцев о неудачных экспериментах, и даже, но это только если бы атмосфера лекции позволила, я показал бы длинный бежевый шрам на левой голени, результат неудачной попытки испортить портрет кисти Хальса в Дрездене с помощью оконного пульверизатора. В конце концов, хоть я со всей уверенностью не рекомендую пульверизатор, должен с некоторым смущением признать, что материал, из которого изготовлен контейнер, он же емкость, если, конечно, эта емкость сделана из schwefelsäurebeständigem материала, в принципе большой роли не играет и что нет системы более совершенной, чем eine Flasche с хорошо завинчивающейся пробкой; быстрое открывающее движение руки и обливание картины, к тому же если зал, в котором находится выбранная картина, недалеко от туалета, что легко проверить на любом музейном плане, получаемом посетителем при входе вместе с билетом, можно позволить себе и более плотное закрывание и даже заклеивание скотчем einer Flasche на время ее транспортировки и проноса в здание музея, а потом отклеивание скотча и ослабление крышки в тиши туалетной кабинки, но на самом деле ничто не заменит ловкости, а она легче всего приобретается в ходе тренировок, я также много раз отрабатывал обливание картины, вернее, ее репродукции, как правило, водой, однако всегда используя ту самую емкость, которую предстояло задействовать в самый важный момент, венчающий все приготовления. За последние недели, с того момента, как мне все-таки удалось купить Schwefelsäure и взлелеять в себе определенные надежды на получение пропуска из Медицинского центра «Замок Иммендорф», у меня не было оказии потренироваться, потому что сам факт тренировки поставил бы под угрозу все мое предприятие, и я не смог бы доставить большей радости охранникам Длоухому и Ауэрбаху, чем выдать себя тем, что, укрывшись за густой елкой или туей в замковом парке, я упражняюсь в поливании водой прибитой с этой целью к стволу рослой ели или туи репродукции известного ренессансного полотна, скажем Тициана, взятой из папки «Шедевры итальянской живописи», которая уже много лет пылилась в больничной библиотеке, но я радуюсь, что емкости, в которых мне удалось приобрести Schwefelsäure, эти удобно ложащиеся в руку литровые Flaschen, имеются в свободной продаже, и я применял их как в Вене, так и в Дрездене, и каждый раз как следует заранее потренировавшись, так что я могу рассчитывать по крайней мере на одну картину, а то и на две и даже на три. Естественно, остается вопрос, а не хватило бы облить две или три соседние картины по той простой причине, что они висят рядом, в одном ряду, а смотритель стоит как раз у входа в соседний зал и что-то читает или разглядывает в своем телефоне, но такой вопрос может задать только человек, который к обливанию картин mit Schwefelsäure подходит равнодушно, чтобы не сказать непрофессионально, и который тем самым никогда не стал бы рисковать потерей своей так называемой нормальной жизни и своей так называемой нормальной семьи только ради того, чтобы уничтожить тонкий слой краски, а вернее всего — только лишь лака на каком-нибудь пятисотлетнем полотне или доске; такой человек, я слишком хорошо знаю это, сочтет эту операцию невыгодной, потому что он, и я в этом уверен, не побрезгует примитивным вандализмом, с удовольствием поцарапает чью-нибудь машину ключом от почтового ящика, накалякает спреем на стене, даже исторической, а в результате — и удовольствие налицо, и риск не перехватывает дыхание в груди, а вот уничтожение собственности, имеющей значительную историческую или финансовую ценность, полностью его парализует.
(…) я всегда боялся снизить свои критерии и опуститься, например, до двух-трех полотен, пусть известных, но не шедевров, только потому, что они висят на удобном расстоянии друг от друга, или же — до известного цикла, развешенного в соответствии с безнадежным вкусом музейщиков на одной стене, но ведь цикл несовершенный, из которого только одно полотно я с чистой совестью мог бы назвать шедевром и с чистой совестью облить mit der Schwefelsäure, потому что прекрасно понимаю, что расплата за мою акцию будет та же, что и обычно, то есть возвращение, причем на долгие годы, в какую-нибудь клинику, больницу или медицинский центр с его невыносимыми пациентами, казенной едой, группами художественной терапии, в которых придурковатый персонал низшего ранга, страдающий каким-то малозначимым психическим заболеванием, участвует в изготовлении котиков из папье-маше, а тронувшиеся умом старые девы — ангелочков из глины, и где власть имеют главным образом те, у кого меньше всего вкуса, то есть врачи-специалисты по художественной терапии, короче — цена будет высокой, и я готов заплатить такую высокую цену, но исключительно за уничтожение шедевра или шедевров.
Я не облил бы mit Schwefelsäure «Портрет некрасивой горожанки в жабо», даже если бы он висел рама к раме с автопортретом Рембрандта, хотя как раз автопортреты Рембрандта и портрет Титуса, один лучше другого, в головах музейщиков так похожи друг на друга, что слились у них в цикл и были удачно повешены в Венском музее истории искусств, один возле другого, к тому же я потянул щиколотку и едва хожу, уж не говоря о том, чтобы бегать, так что я все равно не оболью mit Schwefelsäure «Портрет некрасивой горожанки в жабо», предпочту остановиться пусть на одном Рембрандте, но зато шедевральном, и остается только вопрос долгих размышлений, какому из портретов я сослужу эту службу, причем я не исключаю, что в результате могу остановиться на «Портрете Титуса», который, по моему разумению, ничуть не уступает лучшим из автопортретов Рембрандта.
***
«Господин Кривоклят», — услышал я в коридоре, но услышал так тихо, что принял услышанное за галлюцинацию, которые, честно говоря, хоть и не часто случались у меня, но все-таки случались, впрочем, в медицинском центре более, чем где бы то ни было, считается, что какой-нибудь голос или образ могут быть галлюцинацией, и это относится к самым обычным для таких мест сомнениям, однако мгновение спустя, пройдя мимо двери в палату, в которой, как я потом узнал, вот уже целых восемнадцать месяцев пребывал Цайетмайер, я снова услышал этот голос, «Господин Кривоклят», а услышав, поворотился назад, оперся плечом о дверной косяк, аккуратно так приоткрыл дверь пальчиком и медленно всунул голову внутрь, чтобы увидеть Цайетмайера собственными глазами, продолговатый череп Цайетмайера, обритый наголо, но покрытый синеватой тенью прорастающих волос, череп Цайетмайера, из которого глядела пара стеклянистых, сверхъестественно больших и неестественно светлых глаз, «Господин Кривоклят, — сказал он в третий раз, — у меня к вам огромная просьба. Я знаю, что вы посещаете кружок художественной терапии, и в связи с этим я хотел бы обратиться к вам (именно к такой чрезвычайно вежливой форме прибег он, потому что Цайетмайер, как и многие пациенты, помещенные в больницу по решению суда, прибегал, как правило, к чрезвычайно изысканным и исключительно вежливым формам), хотел бы обратиться к вам с нижайшей просьбой вынести из палаты, где проходят эти занятия, карандаш, идеально же, если это, конечно, вас не слишком обременит (именно так и сказал: «если это, конечно, вас не слишком обременит»), вынести два карандаша, один мягкий и еще один — твердый». Сказав это, Цайетмайер перевел взгляд на окно, как будто придумывание столь пространного и так обставленного формами вежливости обращения вымотало его до предела.
Никто из на самом деле желавших заниматься искусством, безотносительно к тому, для души ли, то есть для себя лично он хотел заниматься им, или для души в том смысле, что он уверовал в сформулированную знаменитым доктором Паулем Иммерфоллем теорию лечения психических заболеваний с помощью искусства, не мог заниматься им вне стен специальной палаты, предназначенной для этих занятий, и тогда, когда эти занятия не проводились, то есть в частном порядке с сохранением своего творческого уединения, с учетом того необычного состояния, когда человек собирает остатки своих сил на дне своего бытия, то есть из одурманенного лекарствами тела, возлежащего на неприличной, прямо-таки оскорбительной металлической койке и на больничных простынях, точно таких же оскорбительных, что и металлическая койка, которые даже в день, когда приносят их из прачечной и застилают ими постель, кажутся затхлыми и грязными, когда он вытаскивает себя из очередных дней и недель, пролетающих в Медицинском центре «Замок Иммендорф», несмотря на бесконечно унижающее и неподобающее природному человеческому достоинству отношение врачей, санитарок и всего вспомогательного персонала, но особенно охранника Длоухого и охранника Ауэрбаха, когда прикасается острием графита к плоскости листка и в мгновение ока снова становится человеком; нет, здесь на занятие искусством вне стен палаты трудотерапии смотрели крайне негативно, чтобы не сказать — боролись с этим явлением. И если каждая бездарь, каждая аптекарша из Браунау-ам-Инн, каждый машинист из Амштеттена, люди начисто лишенные не только художественного таланта, но даже минимальных зачатков вкуса, при условии, что они не покидали четырех стен трудотерапевтической палаты, вволю могли пользоваться дешевыми материалами для живописи и рисования, которые покупались для них из средств и без того безмерно отягощенного бюджета больницы и приносились в палату трудотерапии, то такой человек, как, например, Цайетмайер, обладавший не просто врожденным, а прямо скажем, безупречным вкусом и при этом несомненным талантом рисовальщика, подвергался жесточайшим преследованиям, целью которых было всеми возможными и невозможными способами предотвратить появление очередных его рисунков. Сестра отделения регулярно проводила обыски в его комнате и конфисковывала бумагу и карандаши, как мягкие, так и твердые, хотя, очень сомневаюсь, что она могла отличить одни от других, и лишь несомненной художественной ценности его рисунков следует приписать тот факт, что даже завотделением, человек со, скажем так, не самым изысканным вкусом и нулевым уровнем знаний об искусстве, не осмелилась ни разу, во всяком случае при жизни Цайетмайера, посягнуть на хотя бы один из его рисунков и конфисковать их под тем или иным на скорую руку выдуманным предлогом. Совсем напротив, рисунки Цайетмайера, которые в первый день мне увидеть не удалось, ибо висели они на стене за той самой дверью, приоткрыв которую я заглянул в его палату, были старательно оправлены в паспарту и взяты под стекло, производя тем самым впечатление маленькой частной галереи, так удивлявшей в подобном месте, и висели они там вплоть до его смерти совершенно так, будто старшая сестра отделения, которая с таким остервенением преследовала и боролась с его «художествами», ни в коей мере не представлявшими собой санкционированной медицинским начальством художественной терапии, поняла, несмотря на свое абсолютно явное полное отсутствие вкуса и понимания искусства, что, стоя перед стеной с рисунками Цайетмайера, она стоит перед реальностью, которая ее превосходит; вот и рисунки Цайетмайера, оправленные в паспарту и взятые под стекло, висели там в течение долгого времени, и я мог лицезреть их при каждом посещении комнаты Цайетмайера. «А что, этот пациент… — спросила в день смерти Цайетмайера старшая сестра отделения, ибо в день его смерти она перестала говорить о нем Цайетмайер, в один момент стерла из памяти его фамилию, которую она склоняла на все лады в течение стольких месяцев, чтобы освободить место в своей голове и на своем языке для фамилии очередного пациента, который будет пользоваться его кроватью. — А что, этот пациент, он разве был каким-то художником?» На что я ответил, что разумеется, ибо я был в том глубоко убежден, хоть и понимал, что спрашивала она о чем-то совсем другом, о том, имеет ли Цайетмайер или «этот пациент», имеет ли он диплом об окончании высшего художественного училища, и еще — представляют ли его рисунки так называемую художественную ценность, то есть, в понимании старшей сестры отделения, можно ли за них назначить хоть какую-то цену на аукционе. Я же ответил ей, что он был художником, если принять во внимание его духовные достоинства, ибо знал, что по профессии был он зубным протезистом из Кремса-ан-дер-Донау. Однако это ничуть не меняет того факта, что рисунки Цайетмайера были близки к художественному совершенству, что у него случались рисунки, которые я мог бы вполне рассмотреть в качестве кандидатов на обливание mit der Schwefelsäure, если бы, понятное дело, они уже были бы признанными шедеврами, висящими в музеях и признаваемыми в качестве шедевров, а не непонятно где хранящимися, в отношении ценности которых сомневались почти все, кто заходил в эту комнату и вставал перед стеной, плотно завешанной рисунками, оправленными в паспарту и взятыми под стекло.
***
Измерение времени, проведенного с идиотами и проходимцами, имело для меня также терапевтическую функцию, даже больше: вопреки теориям доктора Пауля Иммерфолля, единственной терапией, какой я предавался в палате трудовой и художественной терапии, была терапия, которую я сам себе прописал, держа палец на выпуклой кнопочке секундомера и рассматривая каждый разговор, который я с кем-нибудь вел, или, скорее, тот, который кто- нибудь вел со мной, исключительно в качестве объекта количественных исследований. Это Дунай, говорила аптекарша из Браунау-ам-Инн, которая обожала говорить со мной, потому что считала меня земляком на том единственном основании, что одно время я пел в Мужском певческом обществе «Песенный венок» в Зимбахе-ам-Инн, причем на другом берегу реки и границы, — это Дунай, говорила она, вазюкая разбавленной гуашью, естественно самой дешевой, по размокающей бумаге для акварели, естественно, не может быть никакого сомнения, самой дешевой, расслаивающейся под кистью, свертывающейся в валики, словно обгорелая на солнце кожа, как долго не смывавшаяся грязь, — это Дунай, говорила она мне, хоть и выросла я на берегу Инна, но это практически Дунай, его приток, то есть вода, которая течет в Инне, становится водой, которая потом течет в Дунае, то есть, в определенном смысле, вода, которую я видела в окна своей квартиры над аптекой моего отца, а потом моего мужа, была водой Дуная, которая не знала еще, что ею станет, если можно так поэтично выразиться; пусть говорят, господин Кривоклят, что прекрасный голубой Дунай — выдумка, пусть, если им так уж угодно, шуточки шутят, господин Кривоклят, пусть пишут в газетах, что якобы кто-то провел исследования и выяснил, что Дунай в течение 182 дней в году зеленый, в течение 113 — серый, 48 дней — в оттенках желтого и коричневого, и лишь 22 дня в году он голубой, во всяком случае, в обычный год, не в високосный, пусть, только вот что скажу я вам: в Браунау-ам-Инн я часто присматривалась к водам Инна, которые потом становятся водами Дуная, и почти всегда они были голубыми, голубыми, — повторила она, роняя с кисти разбавленную краску, ультрамарин, смешанный с цианистой голубизной, — точь-в-точь как в вальсе, тааааа-ра-ра-ра-рааааа, плюм-плюм, плюм-плюм, тааааа-ра-ра-ра-рааааа, плюм-плюм, плюм-плюм, — разливалась она, забрызгивая, особенно при каждом плюм, бумагу для акварели самой, ясное дело, дешевой краской, я же тем временем оставался абсолютно спокойным, даже глазом не моргнул, бровью не повел ни на миллиметр, ибо ничто меня так не успокаивает в подобных ситуациях, как палец на пузатенькой кнопке секундомера. Что касается меня, — подключился к разговору машинист из Амштеттена, хотя с какой бы это стати, ведь речь шла вообще не о нем, речь шла исключительно о Дунае, — что же касается меня, то синий цвет я не люблю, зеленый еще куда ни шло, даже фиолетовый, но к синему я никогда не испытывал симпатии, как-то не по душе был мне, не в смысле, что я имею что-то против неба, ладно уж, пусть будет, в крайнем случае не стану смотреть наверх, действительно, ведь все, что мне требуется для жизни, есть у меня перед носом, а в небо пусть какой-нибудь мечтатель, поэт что ли какой таращится (так и сказал «таращится»), а я люблю вещи практичные, — после чего указал на слепленную из глины пепельницу, как гордая курица с пасхальной открытки, показывающая крылом на снесенное ею яйцо, — люблю вещи красивые и полезные, — прокомментировал он самого себя, — такая вещь, которая радует глаз, а заодно не занимает лишнего места, и всегда, когда человеку охота, можно взять ее, поставить перед собой и закурить, не боясь, что уронишь пепел на ковер, впрочем, пошлю ее сразу жене, жена ненавидит, когда пепел на ковре, и часто мне говорит, Антон, говорит она, я вовсе не против курения, но пепел на ковре — это, честное слово, выше моих сил, а тут пожалте — практичная вещь, пепельница, сделанная собственными руками, и кроме того, — здесь он понизил голос, — из материалов, купленных на средства больницы, так что издержек никаких, — а заметив, что аптекарша из Браунау-ам-Инн посылает мне многозначительные заговорщические взгляды, хотя, конечно, ни о каком заговоре между нами и речи быть не могло, он добавил обиженно, что срок его возвращения в Амштеттен, который в последнее время уже несколько раз, в результате непредвиденных обстоятельств, откладывали, — так вот, срок этот близок, что могут подтвердить в принципе все врачи Медицинского центра «Замок Иммендорф», а стало быть, вопреки тому, что кое-кому может показаться и дать безосновательные основания отпускать жалкие усмешки, он вскоре воссоединится со своей практичной пепельницей, которую собирается послать жене, а сделает он это непременно и сразу, как только пепельница будет обожжена и раскрашена… наверняка не в синий цвет, — добавил он твердо после короткого размышления, потому как, что греха таить, просто не переваривает синего и, честное слово, не представляет, как это вообще можно красить вещь в такой цвет.
***
Я убежден, что никто в жизни, за исключением, может, Цайетмайера, но, видимо, нет, видимо, никто, даже включая Цайетмайера, не понимал меня так глубоко, как моя жена, и ни с кем, как с моей женой, я не мог найти такого точного взаимопонимания, несмотря на определенное расхождение во мнениях; мне до сих пор приходится вести с ней мысленный диалог, в рамках которого я часто говорю ей, что если бы я не принял на себя свою задачу, я занялся бы трудным делом методичной ликвидации мерзавцев, которые пишут о притягивающей взгляд шелковистой мягкости светотени и тому подобные фразы, за которые не только их не наказывают, но совсем напротив — им государство вручает награды, а издательства — высокие гонорары за очередные тома так называемых эссе об искусстве. Это, между прочим, они виноваты в том, что люди разучились встречаться с произведениями, что, перемещаясь по Европе и по остальному миру, под стук чемоданных колесиков по аэропортам, вокзалам, гостиничным коридорам, отстаивая длинные очереди перед выставкой «Гений Леонардо», перед выставкой «Блеск Византии — Тысячелетняя Империя», перед выставкой «Джакометти — Жизнь и Творчество», покупая билеты — обычные и льготные, школьные и семейные, имея большой опыт встречи с музеем, его вестибюлем, его музейным магазином, его музейным кафетерием и музейным паркингом, люди не в состоянии встретиться с произведением, по которому скользят глазом — собственным и стеклянным глазом фотоаппарата, — как рассеянный знакомый, который проходит мимо нас по улице, окидывая нас невидящим взглядом, после чего в музейном магазине бросаются на платки с принтом произведения, на очешники с произведением, на портативные пепельницы с произведением, пеналы с произведением, магнитики с произведением, почтовые открытки в форматах А, В и С с произведением, блокноты с произведением, карандаши с произведением, зонтики с произведением, чашки с произведением и блюдца с произведением, свято веря, что эти полки и эти корзины не перестает наполнять именно то, по чему часом раньше они скользнули своим собственным глазом и стеклянным глазом фотоаппарата, что благодаря разным технологиям печатания, благодаря цифровой фотографии и новым технологиям NASA, которые позволяют напечатать произведение буквально ни на чем, на воздухе, произведение теперь будет с ними навечно, в сумочке, в стойке для зонтиков, на полке буфета, что они будут общаться с произведением, придавливая к холодильнику магнитиком список покупок, вырванный из блокнота с произведением и написанный карандашом с произведением, хотя каждая из этих вещей и сейчас является и навсегда останется всего лишь настолько неприличным суррогатом, что его с успехом можно было бы заменить принтом «пепита». Никто, вспомнил я, садясь в местный поезд на станции Херманнсдорф-Вуллерсдорф, не осуждал меня больше, чем так называемые любители искусства, я готов поспорить на месячную зарплату, а вернее, на то, что от нее каждый месяц остается после вычета судебными исполнителями сумм в счет погашения моего долга трем государствам, четырнадцати музеям и собраниям произведений искусства, что способный социолог смог бы вывести научную формулу ненависти к Кривокляту, по которой можно было бы выразить степень ненависти в зависимости от количества собранных предметов с изображениями произведений искусства, где каждый очешник с Венерой из Урбино, каждая пепельница с пейзажем Писсарро и особенно каждая мыльница с Ренуаром на какой-то процент поднимает уровень агрессии и склоняет к тому, чтобы поделиться с собеседниками идеями относительно изощренных пыток, особенно с применением von der sechsundneunzigprozentigen Schwefelsäure, которая в этих фантазиях изливается в меня потихоньку, по капельке, впрыскиваемая и подкожно и внутримышечно практически во все части тела, во все его органы и через все отверстия.
(…) моя задача, и здесь я должен согласиться с Цайетмайером, изначально обречена на неудачу, и надо как положено, с холодной головой рассмотреть слова Цайетмайера: стоит ли человечеству, а следовательно, и мне, как одному из немногочисленных сознательных представителей этого человечества, стоит ли подвергать какое-либо произведение, а тем более шедевр, опасности уничтожения только ради того, чтобы ударить в набат и разбудить это самое человечество. Но с другой стороны, отвечал я Цайетмайеру, если никто не ударит в набат и человечество не проснется, пропадет не только этот единственный шедевр, а вообще все произведения и шедевры, вся визуальная память; визуальное зеркало человечества, в которое оно смотрелось тысячелетиями и благодаря которому оно могло понять себя, договориться с самим собой, будет выброшено, его роль будет сведена сначала к легонькому китчу, потом к юмореске и наконец к гроша ломаного не стоящему смеху, и тогда то, что сегодня эксперты оценивают в соответствии со своими таблицами как имущество значительной ценности в пять, десять, пятьдесят миллионов долларов, будет иметь ценность доски, на которой произведение написано. «Как порубленный на куски „Святой Иероним“ Леонардо, — встрял Цайетмайер, а я поддакнул, — один кусок которого стал крышкой для кадушки с изюмом, второй — сиденьем табуретки в мастерской сапожника, а третий — дверкой в шкафчике». Нет, возразил я, было только два куска: один был сиденьем табуретки, стоявшей в сапожной мастерской, а второй — столешницей. «Какая разница», — подобрел Цайетмайер. Так или иначе, продолжил я, мы жертвуем одним, только и исключительно ради того, чтобы не потерять всего, в надежде, что люди все-таки что-то поймут, но они ничего не понимают.
***
(…) вот вы пишете в газетах, говорил я им, а потом читаете в газетах, слушаете по радио и смотрите по телевизору только о каких-то совсем несущественных чертах произведения, о его так называемой финансовой ценности, выраженной в шиллингах, марках, евро или долларах, которая будет взята с потолка. «Заявляю протест, — воспротивился прокурор Лангманн, — стоимость уничтоженного обвиняемым имущества значительной ценности, то есть автопортрета авторства Дюрера, Альбрехта, установлена на основе мнения эксперта… и т. д.». «Протест поддерживаю, — поддержал протест судья Трнкочи, — а пусть даже и с потолка, все равно она основана на мнении эксперта, что то же самое». «Заявляю протест», — заявил протест прокурор Лангманн. «Протест поддерживаю», — поддержал протест судья Трнкочи. Во всяком случае, говорил я, цена является, по-моему, чем-то совершенно несущественным, потому что от вас ускользнуло самое главное, а именно: если бы die sechsundneunzigprozentige Schwefelsäure, которая, слава богу, и о чем я говорю с определенным облегчением, говорил я с определенным облегчением, повредила не только лаковое покрытие, а живописный слой, проев все до доски, то я лишил бы вас вовсе не денег, не банкнот, монет, слитков, акций на бирже (или где вы там все это храните), а только произведения, произведения, которое незаменимо, которого не заменит ни названная экспертом сумма, ни двукратность, троекратность, ни также четырехкратность этой суммы, вообще никакая сумма не в состоянии заменить автопортрет Дюрера, не только тот автопортрет, где он в мехах, из Старой Пинакотеки в Мюнхене, но даже и щеголеватого, из Прадо, и тем более того, что, может быть, не столь популярен, но для меня он самый совершенный, который висит в Лувре и который, думаю, что сегодня я уже могу признаться, был моей первоначальной целью, в силу разных обстоятельств не достигнутой, главным образом по причине жесткого контроля при входе на экспозицию, хотя, если бы я имел роскошь выбора, я решительно предпочел бы облить того, что из Лувра, чем того, что из Старой Пинакотеки, даже если луврский менее известен, все это, однако, как я уже говорил, несущественные моменты, более важным вообще является нечто иное, так вот, представьте себе, милостивые государи и милостивые государыни, господин судья Трнкочи, господин прокурор Лангманн, что вы лишаетесь автопортрета Дюрера, любого из них, что вы еще вчера ложились в постель, даже, может, не думая ни об одном из автопортретов Дюрера, но где-то затылком чувствовали, что где бы они ни висели, висят они безопасно, на стене в Лувре, в музее Прадо или Старой Пинакотеки, что всегда, когда бы вы только ни захотели, вы можете сесть в машину или в самолет и встретиться с ними лично, а тем временем вы утром просыпаетесь только для того, чтобы узнать, что автопортрет Дюрера, все равно какой, перестал существовать, нет его, в физическом смысле не существует, и хотя можно радоваться, что он существует в коллективной памяти всех, кто его видел, что он был в ней записан, ведь это только биологическое существование, существование в профессиональной памяти представителей вида homo sapiens, которые живут, как правило, около семидесяти-восьмидесяти лет, и лишь в этом гарантия этого носителя памяти, причем этот носитель не в состоянии никому передать образ, никому не в состоянии его рассказать, так что образ умрет вместе с носителем.
Ни судья Трнкочи, ни прокурор Лангманн, которые должны были оценить степень моей виновности, не сумели, несмотря на мои старания помочь им, несмотря на мои терпеливые разъяснения, толкования, теории, которые порой даже, следует отдать им должное, они пытались выслушать и которые пытались понять, не сумели принять мир без автопортрета Дюрера, хотя бы одного из трех канонических автопортретов Дюрера, мюнхенского, парижского или мадридского. Быть может, они даже не сумели понять, что могли бы от них, от картин, получить, что люди вообще получают от шедевра постоянно, непрерывно, естественно, в той мере, в какой сами смогут перед ним открыться. Эта неизмеримость, неисчислимость, бесконечность дара является, кстати, одной из самых больших проблем, говорил я Цайетмайеру, а Цайетмайер поддакивал, люди делают вид, что не любят математику, люди охотно рассказывают о своих кошмарных учителях математики в начальной школе и в средней, рассказывают о муках на уроках математики, о муках во время зубрежки таблицы умножения, о муках алгебры, стереометрии, о муках возведения в степень и муках дробей, но, в сущности, они любят считать, даже если делают ошибки, даже если путают столбцы, даже если забыли формулу площади круга, они обожают подсчитывать и вычислять, они хотели бы иметь всё как положено описанным, обозначенным на графике, взвешенным и измеренным; и если они ожидают подарка, им хотелось бы знать, чего он стоит, пусть даже не в звонкой монете, но хотя бы в каких-нибудь, но четких единицах. А если уж это невозможно, если это невыполнимо, то, по крайней мере, им хотелось бы этот дар как-то описать, но нельзя описать тот дар, который человек получает от произведения, говорил я Цайетмайеру, говорил все громче и громче, и, вконец возмущенный тем, что нельзя, нельзя описать это, я потерял контроль над голосом, и он, голос, взлетел до горних высот: я пытался делать это много раз, ни за что не получится. (…) Я противник смертной казни, сказал я минуту спустя, на что Цайетмайер кивнул и ответил: «Очень мило с вашей стороны, господин Кривоклят». А ответил он так потому, что, как я понял, смертный приговор в определенном смысле касался его лично, мог бы коснуться его лично, если бы много лет тому назад его судили бы в стране, где существует смертный приговор, и если бы, понятное дело, его не признали бы психически больным человеком. Я противник смертного приговора, продолжал я, но за описание того, что дало произведение кому-то, я расстреливал бы на месте, прямо над, если можно так выразиться, дымящейся еще строкой, оставленной пером или шариком, расстреливал бы, сдирал бы шкуру и разрывал конями за все эти: «Что вносит в нашу жизнь это прекрасное, трепещущее цветовое пятно Ван Гога? Чем обогащает наше существование мистерия света и тени у Ла Тура? Что говорит нам о мире тонкая идилличность полотен Ренуара?» Ничего не говорит нам о мире ни одно из полотен Ренуара, это во-первых, полотна Ренуара являют собой оскорбление миру, а единственное, о чем они говорят, так это то, что люди, абсолютно лишенные вкуса и способности видеть, тоже иногда что-то лепят у себя в голове и выплескивают или, скорее, выплевывают это на полотно, после чего люди, точно так же лишенные вкуса и способности видеть, как и они, будут настаивать, что мир выглядит именно так, как мешанина клубничной глазури и сливов с фабрики красок и беспорядочно разбросанными кусками сала, да бог с ним, с этим Ренуаром, а вот что Ван Гог и де Ла Тур делают с нами — не поддается описанию. И если еще можно как-то описать влияние менее значительных произведений менее значительных живописцев, то шедевры проникают в нас вне зависимости от слов — под словами, над словами, — а то, что они оставляют после себя, берется из иного измерения, будто какая-то шестимерная глыба оторвалась от шестимерной вселенной, а мы пытаемся описать ее в рамках нашего трехмерного опыта, не чувствуя, что мы ее, глыбу то есть, при этом тешем топором, доводя до привычной нам трехмерности, и что из трех обрубленных измерений хлещут потоки крови. В этом-то и состоит вся драма, говорил я Цайетмайеру, который смотрел на меня внимательно своими сверхъестественно большими и неестественно светлыми очами, что если уж что-то невозможно описать, даже если оно существует, то оно не существует; то, чего нельзя никому показать, во что нельзя ткнуть пальцем и сказать «это», теряет в наших глазах не только ценность, но и само существование, до такой степени, что мы в конце концов начинаем сомневаться в существовании дара и задаемся вопросом: возможно ли вообще нечто такое, как дар?
(…) впрочем, обливал я произведения mit der sechsundneunzigprozentigen Säure вовсе не из-за их ценности, выраженной многими нулями, взятой просто с потолка каким-то, с позволения сказать, судебным экспертом, но факт остается фактом: начал реализовывать свою задачу только после того, как, сидя на диванчике в тихой комнатке с окнами во двор, я смотрел на жену, которая спокойно мыла окно, стоя на подоконнике и насвистывая хит из «ABBA», и в следующее мгновение полетела вниз, с пятого этажа, так что, прежде чем я успел добежать до окна, у меня в голове допевалась вторая часть припева, которую она не успела досвистеть, которую она, понятное дело, не свистела в полете, хотя мне казалось, что я все еще слышу его из окна, но я слышал его только у себя в голове, продолжал слышать его, когда добежал и сверху, с пятого этажа, увидел ее, лежащую на тротуаре, мертвую, с желтой тряпкой в руке, которую она не выпустила, будто махала мне ею на прощание.
(…) в противоположность себе же, но себе прежнему, всегда приходившему на встречу с произведением, теперь я вообще произведений не замечал, проходил мимо них, даже обходил их стороной, особо избегая встречи с теми, которые я ценил больше остальных и на которые иногда бросал взгляд издали, краем глаза, чаще всего — висящие посреди длинной стены, удостоенные лавочки, благодаря которой менее опытный посетитель мог сориентироваться, на что в этом зале стоит обратить внимание, присесть и в течение двух минут попытаться внушить себе, что произошло общение с искусством. Сегодня он еще послушает соответствующий фрагмент из аудиогида, потому что там, где на длинной стене висит шедевр, удостоенный лавочки напротив, на уровне рефлекса появляется ожидание приклеенной к стене таблички с рисунком черных наушников, символом аудиогида, а вместе с тем символом непроходимой тупости всего сегодняшнего так называемого общения с искусством, которое состоит в том, что какой-то с позволения сказать эксперт, как блины, печет невыносимые, усеянные лишенными значения датами, текстики, в коих он с изяществом слона отмечает артистизм произведения фразами о манящей шелковистой мягкости светотени, кричащих спазмах контрастов или о мощном и смелом сломе цветовой парадигмы, а потом кто-то другой начитает это искусственным голосом на пленку, совершенно как будто читает инструкцию по пользованию стиральной машиной, все равно, говорит он о «Крике» Мунка или о натюрморте Шардена, всегда звучит это как инструкция по пользованию стиральной машиной и фактически приводит к полному отстирыванию произведения от какой-либо ценности и силы, отгораживанию от произведения чем-то таким же громоздким, как стиральная машина, и таким же угловатым. О аудиогидные племена, вы обречены на гибель и вместе с тем вы и есть гибель как таковая, пораженные страшной болезнью, вы шныряете по прекраснейшим музеям мира и коллекциям искусства длинными рядами зомби, не реагирующими на внешний мир, подвешенные на голос в наушниках, с тусклым взглядом, который не только не в состоянии заметить, что и как нарисовано на картине, но и вообще ничего: ни лавочки, ни стеклянные двери, ни дубовые двери, ни другого человека… Какое счастье, что моя жена не дожила до кошмарной эпидемии аудиогидов, хоть и нашедших приют в жадных ушах, но тем не менее разносящих по залу монотонные комментарии на восьми языках, будто на музей снизошел Дух Святой в образе механической логореи!
(…) я понял, что дело в жертвенности, в самопожертвовании. В жертве. В том, что задача не может считаться выполненной, если нет ареста, процесса, судебных слушаний, с естественным для процесса завершением — приговором. Поняв это, я исполнился огромным спокойствием и при регистрации в гостинице дал свои реальные данные, потом купил сливы и спокойно ждал полицию. Свое выступление на процессе я стал складывать еще в поезде из Касселя, сообщение истинных анкетных данных в гостинице не было никакой, как о том писала пресса, бравадой, никакой, как о том писала пресса, глупостью, и уж наверняка не было, как о том лихо писала пресса, свидетельством отсутствия фантазии, совсем напротив, в этот момент полной ясности и полного понимания я охватил мыслью, фантазией все, что меня ожидает как в ближайшее, так и в более отдаленное время.